
 |
|
#181
|
||||
|
||||
|
http://www.rosbalt.ru/main/2014/01/16/1221890.html
О том, как изменилась ментальность россиян за последние десятилетия, откуда в стране взялся грабительский капитализм, и почему российскому обществу нужна система внешних ограничений, рассуждает член-корреспондент РАН, заместитель директора института психологии РАН Андрей Юревич. — Согласно общеевропейскому социальному исследованию ценностей, у россиян очень высокий уровень потребности в самоутверждении и весьма низкий уровень универсализма – сопричастности другим людям, другим живым существам, природе в целом. Такие результаты во многом идут в разрез с презентацией русской духовности, к которой мы привыкли. Как вам кажется, это объективные данные или издержки методики, разработанной людьми другой ментальности? — Не буду критиковать эту методику, которая, на мой взгляд, не вполне годится для нашей страны. К тому же многое зависит от того, на какой выборке получены данные — ведь у нас культурные и прочие различия между различными слоями общества куда больше, чем у большинства европейских народов. Факт, подтвержденный результатами многих исследований, состоит в том, что с начала 1990-х годов традиционная российская ментальность подвергается значительным изменениям. В нашей стране действительно появилось немало личностей, обладающих описанными вами психологическими характеристиками. Но при этом существует и немалое количество наших сограждан, сохранивших основные черты традиционного российского менталитета — такие, как коллективизм. "Средняя температура по больнице" может получиться очень разной в зависимости от того, где, в каких слоях общества ее измерять. А вопрос о том, каковы современные россияне, стал предметом острых дискуссий, в том числе идеологических. — На Западе в последнее десятилетие активно развивается позитивная психология. Генеральный вывод психологов, исследующих "формулу счастья": чувство удовлетворения и гармонии дает прежде всего работа на благо других и общества в целом. Эти идеалы активно внедряются в западные общества. У нас же в стране продолжается насаждение ценностей жесткой конкуренции и индивидуализма. "Быть успешным и не попасться" — такую формулу современных ценностей предложил известный писатель Андрей Столяров, и тысячи наших читателей поддержали эту формулу своими голосами. Выходит, Россия и Запад движутся в разных направлениях? — Во многом это действительно так, причем такие характеристики, как эгоизм, которые мы традиционно приписывали западным культурам, сейчас многим из наших сограждан свойственны куда больше. Все это не удивительно. Ведь те люди, которые "реформировали" наше общество в начале 1990-х (и до сих пор оказывают на него большое влияние, находясь, в том числе, и во властных структурах), были выходцами из партийных и комсомольских кругов, в советские годы вдалбливавшими себе и другим, что капитализм — "бесчеловечный", "грабительский" и т.п. Придя к власти, они именно такой капитализм у нас и построили, поскольку другого попросту не знали. К тому же на систему отношений в нашем обществе, которую они создали, оказал большое влияние их нравственный уровень. Но дело не только в этом. На Западе отчетливо осознают, что целью любой государственной политики должно быть счастье людей, а не экономические показатели, хотя и значимость последних никто не отрицает. Для нас же все еще характерен "экономический детерминизм" как стиль выдвижения приоритетных задач, восприятия и объяснения происходящего в обществе. Лишь недавно наша власть наконец-то осознала, что нельзя считать благополучной страну, где ВВП растет, а население вымирает. Значимость других — неэкономических — ориентиров, в том числе счастья населения, до сих пор ею недооценивается. И вообще мы стремимся развиваться в основном по западному сценарию, но при этом всегда "догоняем" вчерашний Запад, в качестве "западных" принимаем те ориентиры, от которых он сам отказывается. Причина здесь тоже во многом заключена в "человеческом факторе" — в интеллектуальных и нравственных характеристиках людей, которые воздействуют на наше общество "от имени Запада", при этом отчасти по неграмотности, отчасти под влиянием своих корыстных интересов создавая его сильно искаженный образ. — Некоторые социологи и психологи настаивают, что иерархия ценностей россиян осталась та же, что была в позднем СССР: семья, друзья, достаток, работа. Вы с этим согласны? — Разные исследования дают несколько различающиеся результаты. Иногда наиболее значимой ценностью оказывается семья, иногда – работа. Опять же, многое зависит от того, как формировать выборку. Но, на мой взгляд, изменения каются не столько иерархии ценностей, сколько их наполнения. Советская семья и нынешняя, в которой супруги могут принадлежать к одному полу, а примерно треть браков – гражданские, существенно различаются. Под хорошим материальным достатком тоже понимается разное: тогда – зарплата в 300 рублей в месяц, сейчас – доход, который позволяет иметь личный самолет и виллы в разных частях света. Способы времяпровождения с друзьями также значительно изменились, как и характер взаимоотношений с ними, да и сам смысл слова "друзья". И работа понимается по-разному: для рейдера или рэкетира то, чем они занимаются, тоже "работа". Так что одними и теми же словами советские люди и нынешние россияне называют очень разные вещи, что затрудняет сопоставление их ценностей. — Еще одна распространенная точка зрения: мы проходим естественный период насыщения потреблением, первоначального накопления капитала и расслоения общества. Еще немного потерпеть — и люди станут мягче и альтруистичнее. — Я бы не назвал этот период "естественным". Миф о том, что период первоначального накопления капитала неизбежно сопровождается всеобщей криминализацией и брутализацией, придумали Егор Гайдар и его команда — дабы оправдать то, что они сделали. На самом деле это далеко не так, первые "накопители" во многих странах были не бандитами, а высоконравственными романтиками, воплощавшими в своей деятельности основные принципы протестантской этики — это убедительно показано в работах Вебера и его последователей. Имущественное расслоение нашего общества, соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных, достигающее уровня 1:30, — тоже не естественное, а противоестественное. В западных странах оно значительно меньше, а когда это соотношение больше 1:7, ситуация считается чреватой социальными взрывами и революциями. Кстати, такое запредельное расслоение является одной из основных причин высокой агрессивности современного российского общества. На эволюционный путь нашего "улучшения" и "размягчения" можно надеяться, некоторые позитивные тенденции и в самом деле наблюдаются. Но нужны и активные меры — такие, как сокращение неравенства доходов, доведение его до цивилизованного уровня, реальная борьба с криминалом и многое другое. — В последнее время достаточно часто обсуждаются вопросы культурных различий, менталитета. Однако не приходилось слышать об исследованиях, которые были бы посвящены истокам этих различий. Скажем, на мой взгляд, в России люди в меньшей степени способны выстраивать внутренние ограничения и в большей степени привыкли ориентироваться на внешние. Между тем капитализм был создан людьми с жесткой матрицей внутренних ограничений, и без этого компонента он превращается в Содом и Гоморру. Формирование внутренней матрицы ограничений — это долгий процесс, связанный не в последнюю очередь с культурой бытовой жизни, очень низкой у нас. Стало быть, либо нам надо комплексно меняться и превращаться в европейский психотип, либо примириться с тем перекошенным строем, который у нас сложился, либо как-то его модернизировать под нас — таких, какие мы есть. Как вам кажется, к какому из трех вариантов мы склоняемся? — Вы уловили самую суть. Свобода – это не отсутствие запретов и ограничений, как ее многие у нас понимают с легкой руки наших псевдолибералов, а их интериоризация, перевод из внешней во внутриличностную форму, в результате чего внешние ограничения могут быть сведены к минимуму. Пока такой интериоризации у значительной части общества не произошло, ликвидация внешних ограничителей свободы чревата полным хаосом, "войной всех против в всех" — или более мягким вариантом, характерным для России 1990-х. Поэтому, при наличии базовых демократических свобод, соотношение свобод и их ограничений должно быть разным для разных культур и соответствующим тому, какую степень свободы та или иная культура может себе позволить. Нам действительно надо "комплексно меняться" в направлении большей цивилизованности, интериоризации необходимых ограничений свободы и распространения ее адекватного понимания. Но пока мы меняемся, система ограничений в нашем обществе должна быть более жесткой, чем в западных странах, несформированность внутренних ограничителей должна восполняться ограничителями внешними. Хотя я, конечно, пониманию, какую ярость эта тривиальная мысль вызовет у наших псевдолибералов, одно из главных отличий которых от истинных либералов состоит именно в понимании свободы. — Очевидно, что разрушение советской идентичности не удалось восполнить за счет формирования новой российской идентичности. Возместить потерянное люди постарались через усиление других самоидентификаций – национальных, региональных, кланово-корпоративных. В последнее время вообще часто можно услышать разговоры о неизбежности распада страны, особенно популярные у оппозиционеров. По-видимому, это показатель того, что общестрановая идентичность так и осталась несформированной. Видите ли вы какие-то позитивные тенденции в этом отношении? — Справедливости ради надо отметить, что подобные тенденции в той или иной мере свойственны большинству стран, даже выглядящих в этом плане благополучными. Например, жители индустриального севера Италии считают обитателей ее южных регионов бездельниками и дармоедами, которых они зря кормят, и призывают к разъединению. Но, к счастью, от таких сепаратистских разговоров до распада стран достаточно далеко. Общестрановая идентичность у нас, конечно, существует, но она действительно слабее советской идентичности, а для некоторых – не только для сепаратистов, но и для людей с "эмигрантской" психологией — носит негативный характер. Это очень печально. Но позитивные тенденции я тоже вижу. Например, к россиянам сейчас очень неплохо относятся в тех странах, куда они ездят отдыхать, что понятно: там их воспринимают как "живые деньги". На часто задаваемый вопрос: "Из какой вы страны?" престижно ответить: "Из России". И было бы хорошо, если бы те позитивные чувства, с которыми мы отвечаем на такой вопрос за рубежом, мы сохраняли, возвращаясь на Родину. — Российская общественная жизнь перенасыщена эмоциями. Причем и власти, и оппозиция научились высокотехнологично использовать энергию ненависти, именно на ней строится у нас вся политическая и общественная активность. Энергия позитива, добра, любви не менее эффективна, но ее у нас использовать совершенно не умеют. Кому как не психологам научить этому наше общество? — Я не уверен в том, что будет хорошо, если "энергию позитива" у нас начнут "использовать". Боюсь, что если это произойдет, использовать ее будут не те и не так, как надо, опора на благие намерения приведет к формированию новых "дорог в ад". Кроме того, эта энергия сама пробивает себе дорогу и находит проявление в спонтанном совершении добрых дел — например, в волонтерском движении. На мой взгляд, важнее не использовать, а формировать позитивные импульсы. Например, заменить враждебную установку по отношению к окружающим, свойственную многим нашим согражданам, на дружественную установку, характерную для западных стран. Этому действительно надо в том числе и "учить" — через систему образования и воспитания. К сожалению, последнее изъято из числа основных функций нашей образовательной системы теми же псевдолибералами. Но делать это должны не только психологи, а все, кто к этой системе причастен, включая школьных учителей. А также все, кто в нашем обществе формирует образцы для подражания, — политики и другие публичные люди, представители СМИ, так называемые "звезды", которых бесконечно показывают по телевидению, и т.д. Но, к сожалению, в число приоритетов большинства этих людей пока явно не входит желание сделать наше общество лучше. Беседовала Татьяна Чеснокова Подробнее: http://www.rosbalt.ru/main/2014/01/16/1221890.html |
|
#182
|
||||
|
||||
|
http://expert.ru/2013/10/9/samoreali...suet-rossiyan/
Москва, 05 фев, среда «Expert Online» , 09 окт 2013, 16:19 Западные трудовые ценности в России оказываются совсем не популярны  Фото: ИТАР-ТАСС Западные трудовые ценности в России оказываются совсем не популярны Основными критериями при выборе работы для россиян являются размер зарплаты и ее своевременные выплаты. Такие популярные на Западе трудовые ценности, как удовлетворение от результатов труда, самореализация, интерес, польза для общества, в России оказываются совсем не популярны. При выборе потенциального работодателя наиболее важными критериями для россиян являются хорошая зарплата и полное и своевременное выполнение компанией своих обязательств, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Кроме того, важным для себя при выборе работы респонденты отметили благоприятный психологический климат в коллективе, стабильность компании, соблюдение норм безопасности, удобный график и комфортные условия. Важными критериями при выборе работодателя россияне также считают социальный пакет и возможность применения профессиональных знаний и навыков. По данным ВЦИОМ, наименее значимыми параметрами стали эффективность управления и наличие сильного менеджмента в компании. Реклама По данным опроса, лучшим работодателем среди компаний с государственным участием оказался Сбербанк. На втором месте – ВТБ 24, на третьем – «Аэрофлот». За ними следуют страховая компания «СОГАЗ», РЖД, «Ростелеком», НПФ «Благосостояние». На последнем, восьмом месте «Почта России». Опрос был проведен в сентябре 2013 года. Всего опрошены 1 тыс. респондентов трудоспособного возраста (18-55 лет), проживающих в городах с численностью не менее 100 тыс. человек. Результаты опроса не удивляют, говорят эксперты. Одной из главных причин того, что высокий заработок в России и его своевременная выплата является основным мотивом старательной работы, является низкий уровень экономического развития страны и финансовое положение работников, считает заведующий Лабораторией сравнительных исследований массового сознания НИУ ВШЭ Владимир Магун. Согласно результатам его исследования, такие популярные на Западе трудовые ценности, как удовлетворение от результатов труда, самореализация, интерес, польза для общества, в России оказываются совсем не популярны. Как показывают глобальные опросы населения, в большинстве стран Западной Европы у наемных работников лидирует ценность трудовых результатов. Это все скандинавские страны (70-80% респондентов), а также Нидерланды (57%), Бельгия (56%), Швейцария (65%) и Франция (52%), второе по популярности место у наемных работников в этих странах занимает интерес к тому, чем человек занимается на работе, – то есть ценность, тоже не связанная с какими-то внешними вознаграждениями и обычно относимая к категории intrinsic; ценности же гарантированной занятости и заработка/продвижения вообще не попадают в список трех наиболее распространенных. «В свою очередь, почти во всех странах, где на первом месте по распространенности стоит ценность гарантий занятости или заработка, ценность содержательных результатов не поднимается выше третьего места», – отмечает Магун. В России лишь 30% респондентов заявляют, что их мотивирует к ответственному труду польза для общества. |
|
#183
|
||||
|
||||
|
http://www.polit.ru/article/2014/02/04/dress-code/
04 февраля 2014, 19:13  Что русскому хорошо, то немцу смерть – это общее резюме культурных связей между Россией и Европой в том числе полностью применимо и к политике и, конечно, работает в обе стороны. Технологии политического успеха, весьма эффективные в Европе, оказываются бесполезными, если не сказать - смертельно опасными, в России. Политик, вооружившийся в России томиком Карнеги, может лишиться не только влияния и друзей, но и самой жизни. И даже популярные законы Паркинсона работают здесь с точностью «до наоборот». Но ошибается тот, кто полагает, что Россия – это дикие прерии, где не существует никаких правил. Напротив, в русской политике, как и в других сферах русской жизни, действует довольно строгий «понятийный дресс-код». И только тот, кто глубоко усвоил эти нормы поведения, может рассчитывать здесь на успех. Правило 1 В России нельзя открыто заявлять о своих притязаниях на власть, если целью является получение ее законным путем. Человек, который претендует на власть в России, выглядит неприлично в глазах соотечественников, и, в лучшем случае, вызывает подозрение с их стороны. О желании стать президентом в России, как правило, заявляют только разные «фрики» и те политики, для которых такое заявление есть лишь способ привлечь к себе внимание, но не более того. Серьезные же люди, которые реально на что-то претендуют, должны долго и ритуально отказываться от власти. Всем своим видом они должны демонстрировать свое отвращение к ней и заявлять о своем нежелании нести это тяжкое бремя. В конечном счете, политик может согласиться принять власть, но только жертвуя собой (семьей, бизнесом, личными планами, идеалами и так далее). Народ, в свою очередь, должен уговаривать политика принять это тяжкое бремя и принести себя в качестве жертвы. Эта традиция имеет глубокие исторические корни. Классическим примером является сцена у стен Новодевичьего монастыря, где народ на коленях умоляет Бориса Годунова прийти на царство. Более свежий пример – Путин, отказывающийся от «третьего срока». Правило 2 Не возбраняется открыто декларировать свое стремление насильственно заполучить власть. Если стремление к получению легальной власти постыдно, то намерение «украсть» власть, то есть совершить государственный переворот, организовать мятеж, устроить бунт, разжечь революцию и так далее является весьма почетным делом. Политический вор, в отличие от обыкновенного вора, обществом весьма привечаем, и пользуется безусловным авторитетом. Возможно, это связано с тем, что народ в глубине души убежден в том, что законным образом власть нельзя получить в принципе, и поэтому воспринимает тех, кто открыто заявляет о намерении совершить государственный переворот, как честных политиков. Ленин мог не скрывать своего стремления к власти именно потому, что никогда не собирался получать ее законным путем. Реже всего ему в вину вменяется именно нелегитимность его режима. Правило 3 В России нельзя называть себя политиком. В-первых, поскольку в России нет политики в точном смысле этого слова, то и на самом деле в ней нет настоящих политиков. Народ этого не понимает, но чувствует это своим инстинктом, и поэтому априори считает всех политиков жуликами и самозванцами. Политик в России, как разведчик, должен работать «под прикрытием», то есть, придумывая себе какой-то более солидный в глазах общества род занятий. Так, самый, пожалуй, известный российский политик XX века В.И.Ленин, находясь на вершине политической власти, заполняя в анкете графу о профессиональной принадлежности, указывал – «литератор». К человеку, заявляющему, что он - «профессиональный политик», в России относятся с предубеждением. Правило 4 Политик не должен подчеркивать, что он «из народа». Если на Западе полезно быть «своим парнем», выглядеть как все и всячески рекламировать себя как воплощение какой-нибудь «американской мечты», то в России важно подчеркнуть, что ты другой. В массе своей русский народ очень трезв (даже, когда пьян) и самокритичен. Он прекрасно знает, какой он есть, и поэтому не в восторге от идеи, что им будет править такой же, как он. От человека, нарочито подчеркивающего свою народность, русский народ инстинктивно ждет какого-то подвоха. Он убежден, что «свой парень», дорвавшись до власти, обязательно начнет ею злоупотреблять, прежде всего, в корыстных целях. Поэтому «своему» при прочих равных условиях народ предпочтет «чужого», желательно с другой планеты. Правило 5 Политик в России не обязан быть русским, но должен называть русский народ великим. Русский народ любит, когда говорят о его исключительности и богоизбранности, неважно – православной, коммунистической или либерально-демократической. Если это условие исполняется, то остальное менее важно. Вопреки широко распространенному мнению, на протяжении столетий русские толерантно относились к тому, что ими правили иноземцы – варяги (при первой династии), немцы (при второй династии), евреи (во время революции), грузин (во время контрреволюции), малороссы или культурно близкие им (Хрущев и Брежнев в эпоху застоя). Проблемы по-настоящему начались тогда, когда к власти пришли Горбачев и Ельцин. Правило 6 Политик в России не должен обещать народу хорошего при жизни. Русский народ недоверчив, в его исторической памяти нет места для рождественских сказок, и поэтому он воспринимает любые обещания, кроме обещаний трудностей и испытаний, крайне скептически. Правда, в качестве компенсации русский народ по-детски восприимчив к обещаниям потустороннего счастья в любой отдаленной перспективе, до которой он не имеет шансов дожить, и особенно для будущих поколений (рай, коммунизм). Поэтому любые импровизации в отношении будущего допустимы. Правило 7 Политик в России должен быть крут. Любое сострадание и, тем более, сентиментальность воспринимаются здесь как проявление слабости. Жестокость и даже просто декларация о готовности проявить жестокость немедленно повышают авторитет политического деятеля. Политик должен уметь держать дистанцию между собой и народом, являясь последнему попеременно: либо в образе отца, либо в образе барина, но обязательно строгого и справедливого. Русский народ живет в ожидании приезда урядника, и, если тот долго не появляется, впадает в беспокойство. Общая формула, выведенная Некрасовым более 150 лет тому назад, так или иначе, остается «рабочей» до сих пор: «Люди холопского звания - сущие псы иногда: чем тяжелей наказание, тем им милей господа». |
|
#184
|
||||
|
||||
|
http://www.svoboda.org/content/transcript/25251258.html
C новым лидером "Гражданской платформы" Ириной Прохоровой говорим о консервативном курсе Кремля и планах ее партии Ирина Прохорова о консервативной реакции в России Лицом к событию. Почему путинские "духовные скрепы" подошли России, а на Украине вызвали восстание масс? Михаил Соколов Опубликовано 03.02.2014 19:05 Почему путинские "духовные скрепы" подошли России? C главой Федерального гражданского комитета партии "Гражданская платформа", главным редактором издательского дома "Новое литературное обозрение" Ириной Прохоровой мы говорим о консервативном курсе Кремля и планах ее партии. Михаил Соколов: Сегодня у нас в московской студии в гостях Ирина Прохорова. Мы сегодня поговорим, как я хотел, о духовных скрепах, которые связывают сейчас Россию. Напомню, что Ирина Прохорова теперь новый лидер партии “Гражданская платформа”, председатель федерального комитета партии и главный редактор Издательского дома "Новое литературное обозрение", так что мы можем поговорить еще и о культуре, и о литературе. Я начну с события дня, действительно огромный шум. Молодой человек, сын эфэсбешника приходит в школу с винтовкой, убивает учителя, который якобы лишил его золотой медали, потом стреляет в полицейских, еще одного убивает человека. И вот все это комментируют, и один человек тоже комментирует, он говорит следующее: “Надо воспитывать новое поколение зрителей с художественным вкусом, умеющих понимать и ценить театральное драматическое и музыкальное искусство. Если бы у нас делалось это должным образом, то может быть и трагедии, подобной сегодняшней московской, не было бы”. Это сказал Владимир Владимирович Путин. Ирина Прохорова: Я понимаю, что и президент человек, эмоционально может прореагировать. Но тут тот случай, когда бы я с ним согласилась. Потому что показывали в течение 15 лет сериалы, где царит жестокость, абсолютно бесконечно “Бандитские Петербурги”. Кстати, огромное количество зрителей возмущается и говорит, что это такое? Михаил Соколов: А из Думы кричат: американские сериалы виноваты. Ирина Прохорова: Как-то смешно, американские сериалы, как правило, идут часов в 12 ночи, в первом часу, когда дети вряд ли это смотрят. А вот, надо сказать, сериалы, где бесконечные бандитские разборки, идут с утра до ночи, и на них стоит странным образом “12+” и так далее, вполне возможно, могли на это дело повлиять. Если будет пересмотрена программа с этой точки зрения, я буду страшно признательна, честно говоря, и президенту лично. Михаил Соколов: Хотя я бы с вами поспорил, я бы говорил о другом: где там были психологи, какая атмосфера в этой школе, как власть обращается с обществом и тоже насилие навязывает. Ирина Прохорова: В данном случае я просто комментировала. Упреки предъявляются, я не знаю, кому, но у меня есть ощущение, Владимир Владимирович Путин вряд ли смотрит телевизор, я думаю, у него есть много других важных функций. Не знаю, как он представляет, как работает телевидение, подозреваю, что он имел в виду другие типы программ, в реальности не существующие, но кажущиеся ему. На самом деле реабилитация насилия и эстетизация насилия, которая течет по каналам, причем по центральным, где показывается, как славные наши полицейские или эфэсбешники расправляются с преступниками, а на самом деле это чудовищно брутальные сцены, на самом деле они, наверное, воздействуют. Не думаю, что они вообще касаются того, что этот молодой человек сделал. Надо понять, может быть, у него была неустойчивая психика, а этого никто не знал, действительно, какие нравы в школе. Простите, начнем с того, как воспитывали его в семье. Я бы очень не хотела, чтобы это выглядело как несимметричный ответ, повод, чтобы начать цензурировать невинные вещи. Михаил Соколов: Я думаю, что самый простой ответ будет, что в каждой школе будет не один охранник, а два охранника, за которых будут тоже платить родители. Проще этого ничего нельзя сделать. Ирина Прохорова: Если ограничиться этим – это не так страшно. А вопрос о том, кто как кого воспитывает, я боюсь, встанет на повестку дня. И я не очень уверена, что причины, корни социальных проблем будут правильно сформулированы, как показывает практика Думы, как она реагирует на многие социальные явления и катаклизмы. Михаил Соколов: А вы уверены, что президент России не смотрит телевизор? Теперь все считают, что “Дождь” страдает от того, что Владимир Путин или посмотрел телевизор, или узнал, что было сказано на “Дожде” по поводу блокады Ленинграда, команда прошла и дальше происходит неприятность. Ирина Прохорова: Вы меня спрашиваете, как будто я сижу в приемной Владимира Владимировича и мне рассказывают – он посмотрел или ему положили на стол записку. Знаете, смотрите, нам кажется, что мы сохраняем некоторую независимость взгляда, а мы поддаемся какой-то идее, что все исходит от Владимира Владимировича, он все видит, все знает, все читает и так далее… Михаил Соколов: Так в России монархия, президентская монархия! Ирина Прохорова: Не знаю. Я думаю, есть общий сложившийся тренд и непонятно, кто кого подпитывает. Я сильно подозреваю, что когда начинается установка на блокирование информации – это потом сильно оборачивается и против самой власти, и степени ее осведомленности. Вообще мы проходили в советское время, когда Советский Союз пал жертвой собственной дезинформации, уже не очень понимая, что реально делается в стране, потому что все цифры были дутые, подделывались “чего изволите” и так далее. Не исключаю, к сожалению, что президент может быть абсолютно дезиориентирован во многих происходящих вещах, тенденциозно преподнесена информация, что-то скрывается и так далее. В этом смысле, как ни смешно, для чего нужна свобода слова? А для того, чтобы и первое лицо страны, и последнее лицо страны имели доступ к какому-то разнообразию качественной информации. Такая простая истина, к сожалению, 20 лет спустя приходится ее повторять, что очень грустно. Михаил Соколов: Да, все ходит по кругу. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете этот тренд, который задается, на мой взгляд, сверху: телевидение известно кем руководится и регулируется откуда, мы знаем про все эти совещания на Старой площади у конкретных людей, в конкретных кабинетах. Тренд этот – превращение авторитарной системы, которая была последние лет 10, уже в такой полутоталитаризм, когда надо прикрыть всеобщее воровство и коррупцию красивой идеологией? Ирина Прохорова: Гадать на кофейной гуще довольно сложно. Но то, что идет тренд на такие действительно привычные формы управления в отсутствии может быть профессиональных навыков у большого количества людей, которые в последнее время сидят на разных этажах власти, или инерция – это долгий разговор, где можно по-разному анализировать, он, несомненно, есть. На самом деле это очень грустно, потому что здесь, кстати говоря, есть пробел, который мы понимаем, – это отсутствие гражданского образования в школах хорошо поставленного, отсутствие профессиональной подготовки политических людей и людей, которые занимаются системой управления, такой системной и серьезной, она дает свои плоды. Я, честно говоря, всегда стараюсь дистанцироваться от идей заговора, каких-то злоумышленников, которые окопались во власти, монстров, которые управляют.  Ирина Прохорова К сожалению, надо признать, что это всё наши граждане и сограждане. Более того, мы часто видим странные метаморфозы в стиле Кафки, когда разумный человек идет во власть и вдруг через два года узнать человека невозможно. Значит, мы недооцениваем ту социальную и культурную традицию, которая стоит за каждым из нас. Очевидно, недостаточно читать книги, красиво рассуждать и владеть всякими теориями. Идея гражданского воспитания и образования – это нечто другое, это понимание прав и свобод, это понимание собственной ответственности, понимание себя в социуме. И отсюда все приходят к одному и тому же, поскольку этого нет, просто не знают, как другими способами справляться с проблемами. А традиция всегда очень простая была: что-то происходит – закрутить гайки, посадить в кутузку, запретить и так далее. Михаил Соколов: И народу это понятно? Ирина Прохорова: Любому народу понятны простые вещи. Не будем изображать, что наш народ сильно отличается по реакции от любого другого народа. Искусство политики – объяснить сложные вещи простым языком. Другое дело, когда пытаются сложные проблемы не объяснять просто, а решать простыми вещами. Действительно, а у нас решается все просто: "К стенке, расстрелять!" Я немножко в шутку говорю. Михаил Соколов: Уже нельзя, но посадить можно. Ирина Прохорова: Но, смотрите, без конца вопрос о том, не ввести ли снова смертную казнь в отдельных случаях. По счастью, все-таки здесь пока работает инстинкт самосохранения у самих депутатов, они все-таки эту идею не поддерживают. Но идея увеличения сроков за мифические какие-то преступления, плохо прописан состав которых, позволяют беззаконию процветать. Вся система репрессивного механизма без какого-то фундамента правового – это такая традиция решения проблем, история показала, что они не решают проблемы, а умножают. С этим надо бороться. И более того, меня потрясает больше всего, когда депутаты, предлагают какие-то вещи прямо антиконституционные, просто открываешь конституцию и сверяешь, удивительно, что для них это не очевидно. Михаил Соколов: Но они же хотят показать, что они в консервативном или консервативно-советском тренде, а что там есть конституция – не имеет значения. Конституция по многим пунктам нарушается уже годами и с тем страна и живет. Так что они вполне вписываются в реальность. Конституция – миф, а то, что они делают со всеми многочисленными запретами, которые придумываются каждый день – это и есть реальность. Ирина Прохорова: Да. Но я думаю, что за это и стоит бороться, чтобы конституция перестала быть мифом. Я хочу заметить, что все-таки эти 20 лет все равно даром не пропали. Обратите внимание, что большое количество социальных движений и протестов, я вовсе не свожу к одной Болотной, в разных регионах, сводятся во многом не к требованиям политических свобод, а тем не менее, все-таки попытки людей отстоять какую-то законность в том или ином виде. Мне кажется, постепенно идея правового сознания и вообще идея примата закона к людям приходит. Их многочисленные жалобы на правовой произвол, на то, что суды не работают как должно, что люди не защищены как должно – это уже выражается. Это говорит о том, что общество эволюционирует. И я не исключаю, что какой-то момент наступит, когда люди начнут сознательно бороться то, что мы называем правами и свободами, которые до сих пор имеют абстрактный характер. Михаил Соколов: Они же начали бороться в 2011 году. И вот теперь в свежем интервью арестованный Сергей Удальцов пишет как раз сегодня: “Широкое протестное движение, которое зародилось в декабре 11 года и поначалу так напугало власти, сегодня практически развалено. Власти нейтрализовали самых активных” и так далее. То есть борьба началась, она и закончилась. Теперь, я так понимаю, что власть вытаптывает ту почву либеральную, демократическую или левую, но демократическую, на которой это движение выросло, дальше будет выжженная пустыня, есть и такие прогнозы. Ирина Прохорова: Я с одной стороны глубоко сочувствую этим активистам, которые оказались заложниками и жертвами подобных репрессивных аппаратов. Мне кажется, это совершенно бесполезный способ воевать с собственным народом – это тупиковая вещь. С другой стороны не могу согласиться, что вообще нет никаких социальных движений. Хочу сослаться на недавно изданную книгу “Городские движения на пути к политическим”, где команда питерских социологов изучали в течение 10 лет изучали разные социальные движения в провинции, и очень хорошо показали, что провинция давно активна, и очень разные типы движения – за сохранение какого-нибудь леса, в Калининграде требовали снятия губернатора, который провинился перед людьми и так далее. Показывает, что совсем нельзя сказать, что нет никакой почвы для движения. Михаил Соколов: Она была, но если сейчас ее будут вытаптывать, эти скрепы все время набрасывать, новые законы, новые посадки. Сейчас по “Болотному делу” посадят еще десяток, кого-то амнистировали, а их посадят – это будет сигнал обществу, что не надо выходить никуда. Вышло бы, предположим, в воскресенье прошедшее 10-15 тысяч человек, а вышло всего 5 в защиту узников “Болотного дела”. Я пессимистично смотрю. Ирина Прохорова: Пораженческие настроения, я считаю, что это совершенно недопустимо, мы сразу принимаем идею безнадежности. А я наоборот хочу видеть точки роста, которые мы не замечаем. Хорошо, это тоже интересный момент: а может быть мы сами перестанем исповедовать идею какой-то массовидности. 5 тысяч – это немало, уверяю вас, это часть людей. Можно ссылаться на морозы, воскресенье, еще что-то такое. Михаил Соколов: В Москве сколько живет – 12 миллионов, 15? Ирина Прохорова: Я вам хочу сказать следующее: это неважно, сколько вышло – тысяча, 5 тысяч или 25 тысяч, сам факт, что можно добиваться того, что люди выходят, дается разрешение и добиваются – это уже замечательно. Социальные движения не должны и не могут ограничиваться исключительно выходом бесконечным на улицу – это неправильное представление. Потому что то, что предлагают нашему обществу, его обвиняют во многих вещах, а я все время защитница нашего молодого зарождающегося гражданского общества, не хватает системной работы, понимания, что просто одними выходами на демонстрацию ты не можешь добиться всего. Давайте рассмотрим историю "Болотного движения". Я вам хочу сказать: я буду последняя, которая будет обвинять организаторов движения, что они не смогли чего-то организоваться. Это очень трудно, у нас не было никогда навыков ассоциирования. В течение нескольких столетий общество воспитывали так, чтобы оно не могло объединяться ни по какому признаку. Поэтому мы начинаем с нуля и мучительно осваиваем эту науку самоорганизация. Но я думаю, что во многом не произошло консолидации ровно потому, что не смогли разработать уже более конкретные направления социального движения. Выходить сто раз за перевыборы, когда выборы состоялись – это был момент немножко идеалистический. Но может быть, стоило бы сформулировать. Михаил Соколов: Выходили за новое законодательство, и мы видим, какое законодательство появилось – с фильтрами, с разнообразными придумками, такое, которое опять же выгодно власти. Хочется ей “против всех”, чтобы отчасти часть голосов. Ирина Прохорова: Вы про власть, а я про общество. Кстати, обратите внимание, что вы все время становитесь на позицию власти, глядя ее глазами, смотрите. Я пытаюсь смотреть на это со стороны общества. Я хочу сказать, что даже отрицательный опыт все равно опыт. И даже опыт болотного движения при том, что в тот момент организаторы не смогли выработать мощную позитивную программу, вовсе не говорит о том, что это было неправильно, бесполезно. Я, например, всегда возмущалась, когда пытались потом свои же бить своих, как у нас очень любят и говорить: ну что же они такие? Первый раз не получилось – получится второй раз. Тем не менее, я считаю, что сама идея, что люди формулируют некую систему протеста, выходят и все-таки чего-то добилось это движение. Худо-бедно, при всех издержках допустили появление других партий, хотя с большим скрипом и с большими основаниями. Что-то все равно сдвинулось. Не проходят бесследно такие вещи. Мы очень нетерпеливая радикальная культура, которая все время требует какого-то совершенства. Вы знаете, в своем глазу ищем соринку и все время говорим: вот не то сказал, вот не так поступил. В этом смысле, мне кажется, надо отдавать должное тому, что сделалось, в каких условиях это делалось и что можно дальше сделать, как дальше развиваться. На самом деле для общества сформулировать, какие у нас приоритеты, за что надо биться. На данном этапе нет смысла об этом говорить. Мы действительно хотим сразу и все и чтобы светлое будущее расстелилось перед нами. Сразу не расстелется. Но если мы примем за идею, что вообще ничего невозможно, то, разумеется, деморализация будет страшная. Михаил Соколов: Я понимаю. Давайте еще вопросы, то, что у меня на Фейсбуке было. Почему путинские духовные скрепы подошли России, а на Украине все то же самое вызвало народное восстание, возмущение? Законы же такие же предложили украинцам, а они вышли и, кстати, чего-то уже добились все-таки. Ирина Прохорова: Мне здесь трудно судить, почему в одном случае работает, в другом не работает. Все-таки Украина уже 20 с лишним лет другое государство, там работали другие законы, по-другому шло развитие в течение 20 лет. Я не так хорошо знаю ситуацию там, боюсь судить, где-то одно работает так, а в другом никак не срабатывает. Для этого надо наблюдать, как развивалось общество, как развивались отношения власти с обществом, какие внутренние противоречия существуют, какая традиция существует. На самом деле на Украине есть такое понятие как Западная Украина, где традиции другой жизни, во всяком случае, культурная память о каком-то другом опыте, например. Я думаю, что наши все рассуждения связаны с тем, что психологически мы до сих пор считаем, что Украина – это не заграница, это все наше по принципу общеимперское. Это совсем не так. Более того, почему мы считаем, что все те меры, которые принимаются у нас, будут до бесконечности приниматься, и это не повлечет за собой каких-то результатов. У нас это может произойти по-другому. Я не вижу, чтобы общество так уж совершенно спокойно реагировало на все это. Или на Украине ситуация более драматическая, я боюсь судить, но и в России бывает, когда терпят, терпят, а где-то потом терпение заканчивается. Михаил Соколов: Я вас успокою, правда, когда была Болотная площадь, а в это время на Украине Янукович спокойно устраивал свою тоталитарную систему, местные публицисты как раз упрекали свой народ, что вот в России наконец-то идет яркая политическая борьба, а у нас все сдаются, перекупаются и вообще происходит черт знает что. Так что в этом смысле друг друга страны оплодотворяют событиями. Ирина Прохорова: Мы как всегда видим театральную сторону политической жизни, то есть демонстрации, манифестации – это вещь очень важная и символически очень важная. История любой страны показывает, что вообще на самом деле главный момент, мы учили историю: битва трейдюниоров за расширение прав рабочих или каких-то сословий, профессий, еще какие-то вещи. На самом деле вот это есть главная борьба – расширение прав профессиональных, общегражданских, которую ведут люди разных профессий, разных социальных слоев, формулируют свои задачи на уровне собственных интересов корпоративных или личных и так далее. Вот эта слаженная или разноуровневая борьба в итоге приводит к тому, что выстраивается система буферов между государством и обществом. Я понимаю, что это банально, но я еще раз повторю, необязательно оригинальничать: любое государство, любая власть очень быстро становится авторитарной, как только провисает буфер в виде ассоциаций, профсоюзных организаций, любых форм ассоциаций общества, которые просто не позволяют власти проводить законы тотального контроля. Михаил Соколов: Власть же борется в России с этими ассоциациями, закон об “иностранных агентах” разрушает эту структуру. Ирина Прохорова: Это говорит о том, что эти организации существуют и они возникли. Может быть обществу есть смысл, и вот здесь надо вести объяснение, почему эти организации так важны, какую функцию они выполняют. Честно говоря, я не очень помню, чтобы мы как-то серьезно занимались этими объяснениями не на абстрактном уровне, а на конкретных, как работают ассоциированные общества, что это такое. Сейчас, кстати, в стране очень много идет самоорганизации людей: родители организуются, чтобы помочь родителям, у которых больные дети, например, церебральным параличом, я знаю такие случаи. Они образуют сообщества, занимаются арттерапией, пытаются что-то сделать. Кажется, все это мелко, нет, это и есть та самая низовая демократия, когда люди вдруг начинают понимать, что они что-то могут сделать сами, не стоя, не глядя на государство – подайте нам, подайте. Вот отсюда начинается гражданское общество по большому счету. Михаил Соколов: Думаю, да. В XIX веке тоже, когда было создано земство, много вокруг него чего наросло. Но современная, извините, власть, не могу не сказать это слово, как раз такие возможности сокращает. Возможности муниципальные, например, сокращаются. Вы собираетесь на выборы в Москве, но даже Московская городская дума массу вопросов не может решить, все в руках исполнительной власти и так далее. То есть здесь система действительно за последние 15 лет стала такой вертикальной, какой она была в худшие времена Советского Союза, наверное. Ирина Прохорова: Вы знаете, я тут с вами не соглашусь. Она неприятная, но все-таки давайте мы объективно посмотрим на тот коридор возможностей, который был в советское время и сейчас при всех отрицательных моментах. Михаил Соколов: Главное, что есть возможность уехать, которой люди пользуются. Ирина Прохорова: Не только. Тем не менее, все-таки нынешняя партия власти совсем не КПСС, единственная и неделимая, никакой альтернативы нет. Все-таки возможность оппозиционных партий, оппозиционных течений существует, хотя с ними, конечно, борются. Все-таки, простите, существует независимое книгоиздание. Все-таки существует большой коридор профессий. Существует бизнес, который в сложном положении, но он существует, тогда его не существовало. Вообще-то есть частная собственность какая-никакая. Михаил Соколов: Условная. Ирина Прохорова: Почему же она условная? Люди владеют хотя бы собственными квартирами, а этого тоже было невозможно достичь. Это, между прочим, достижение начала 90-х годов, Ельцин, который позволил. Михаил Соколов: Мелкая частная собственность и условная крупная. Мне кажется, что ваш брат вынужден был уйти с поста главы партии в том числе и по этой причине. Ирина Прохорова: Вы знаете, я сейчас не буду обсуждать моего брата и его собственность, пусть он сам расскажет про это. Я говорю о другом. Опять же, почему так пренебрежительно говорить о мелкой собственности, в конце концов – это то, что людей и держит, хотя бы есть квартира, которую можно завещать детям, можно в крайнем случае продать в сложные моменты, можно сдать в аренду, можно что-то сделать свое какое-то небольшое предприятие или еще что-то. Конечно, мы можем говорить, что все это несовершенно, государство давит и все прочее, но этого же вообще ничего не было. Михаил Соколов: Эта система похожа на НЭП с командными высотами в руках государства. Ирина Прохорова: И похожа, и не похожа. Потому что общество другое, структура общества другая. Хуже или лучше – это бессмысленное сравнение. Но я хочу сказать, что при всех сложных ситуациях, если мы совершенно игнорируем хотя бы то, что мы имеем, мы потеряем и это. Мне кажется, что во многом эта постепенная потеря каких-то завоеваний, которые были в тот сложный период сделаны, связано с тем, что мы просто их видеть не можем. Реестр достижений, сейчас мы начали с вами перечислять, чем отличалось советское от нынешнего, в советское, многие вам скажут, было государство, какое ни свирепое, но это было государство социальное, которое что-то, пусть на плохом уровне, но что-то гарантировало. И кстати, при том, что я, честно говорю, никогда не любила советскую власть и совершенно не ностальгирую, я вынуждена признать, что при том, что это плохо работало, но система какого-то социального обеспечения существовала. Бесплатное образование. Какое оно было – это разговор долгий. Тем не менее, я понимаю, что социальные лифты для людей, которые не обладали возможностями родиться в культурной семье, конечно, существовали, и они сейчас пресекаются. В каком-то смысле идет ухудшение, потому что большинство людей отсекается от будущего, они не могут получить образование, потому что оно практически становится платным. Они практически перестают получать лечение, потому что оно становится платным, при этом не гарантируется качество, и так далее. Вот с этим, я полагаю, можно бороться и, кстати, найти союзников во многих партиях при всех расхождениях в других вопросах. Здесь бы я действительно ставила вопрос, что странно, что нынешний режим собирает худшее из двух систем управления. То есть он оставляет систему репрессивную без обязательств перед обществом, то есть плетку мы оставили, а пряник не даем. Попытка скрестить несовместимое, мне кажется, есть главный порок нынешней ситуации. Если вы не хотите растить независимых граждан, давать им полномочия, тогда они могут о себе позаботиться, если вы им даете достаточный простор для деятельности. Если вы хотите верноподданных, которые ничего не делают, извольте их обеспечить всем необходимым. А идея верноподданичества, но при этом сами, как хотите, так и выживайте – это, мне кажется, нежизнеспособная система. Михаил Соколов: Я хотел бы вот что спросить, у меня один из слушателей написал: простым языком, как вы сказали, объясните, что вам нужно во главе партии? Вот он написал: “Пусть объяснит гостья, что ей нужно в политике”. Имеется в виду, видимо, чего вы хотите добиться. Ирина Прохорова: Вы знаете, я бы сказала так: партия создается не просто, чтобы поучаствовать и развлечься какому-то количеству людей. С моей точки зрения, может быть это звучит высокопарно и наивно, но я здесь искренна, партия – это концентрированное выражение некоторой системы идей и ценностей. Михаил Соколов: Тут был вопрос тоже: является ли “Гражданская платформа” идеологической партией? Ирина Прохорова: А что значит идеологическая партия? Слово “идеология” у нас так затоптано, что его страшно произносить. Михаил Соколов: Страшно, но можно. Ирина Прохорова: У “Гражданской платформы” есть программа довольно серьезная, как она видит развитие страны, начиная от внешнеполитической доктрины, экономической, культура, образование и так далее. Это все-таки, если говорить просто, это идея открытого общества, общества правового – это правовое государство, где действительно работают законы, направленные на защиту от произвола. Это, конечно, идеальная конструкция, но это идея главная. Ведь у нас, обратите внимание, любые реформы в старое время, особенно в последнее время – это опять такая ложная имперская идея, когда людям предлагается жертвовать собой во время величия страны. То есть государство опять предлагает модель, когда оно не несет никаких обязательств перед людьми и главная идея не благосостояние людей, счастье и безопасность, а идея беспрекословного подчинения своей жизни, судьбы и своих детей каким-то геополитическим фантазиям. Это называется патриотизмом. Я бы сказала, что эта модель себя изжила. В конце концов, мы считаем, что государство имеет обязательства перед людьми, оно должно быть хранителем конституции и действительно работать на человека, потому что благосостояние человека – это и есть условие развития величия страны, а не количество ракет. Я не знаю, насколько это просто сказано. Я эти идеи глубоко разделяю и поддерживаю. Я считаю, что основная линия развития партии должна быть фактически борьба за правовое государство, за то, чтобы законы исполнялись и чтобы они были направлены действительно на защиту человека от произвола, а не наоборот. Михаил Соколов: Понятно, законы – это хорошо теоретически. А практически принимается сначала закон об оскорблении чувств верующих в Бога, а потом готовится закон об оскорблении чувств верующих в Сталина, то, что мы видим сейчас. И что вы будете делать? Ирина Прохорова: Будем активно протестовать, будем объяснять это общественности, выступать против этого закона. Вы хотите каких-то сразу чудес, а партия развивается. Я считаю, что надо заниматься просвещением, надо объяснять людям помимо того, чтобы участвовать в каких-то кампаниях и выборах. Выборы – это и есть способ частого соприкосновения с людьми непосредственно, хотя этим не ограничиваются. Михаил Соколов: Даже нечестные выборы? Ирина Прохорова: Мы знаем, как у нас проводятся выборы и, тем не менее, участвовать и сопротивляться фальсификациям. Обратите внимание, вы говорите, что нечестные выборы, смотрите, как в последнее время развился институт волонтеров и наблюдателей независимость – это и есть борьба общества за возможность честных выборов, провести своих кандидатов, как-то привести других людей во власть, которые будут так или иначе ее менять и гуманизировать. Да, будем участвовать, будем привлекать волонтеров, будем сопротивляться и сражаться за то, чтобы выборы были максимально честными по возможности. Если вообще ничего не делать, то это будет просто разгул беззакония. Михаил Соколов: В этом смысле я с вами согласен. Андрей спрашивал: “Где та черта, за которой вы как политик призвали людей к гражданскому неповиновению?”. Ирина Прохорова: Вопрос хороший и сложный, я должна как-то его сформулировать. Преступления против людей – это террор против общества, это беззаконный массовый террор, который мы, к сожалению, знаем из истории. Здесь я считаю, что надо призывать людей к гражданскому неповиновению. Михаил Соколов: Олимпиада – это не повод для того, чтобы протестовать? Огромные деньги пропали, растрачены непонятно, как. Хороший такой будет праздник, наверное, для начальства, которое будет стоять на трибунах. В вашей партии есть какая-то позиция по поводу разоблачений, связанных с Олимпиадой? Ирина Прохорова: Я вам хочу сказать, что есть большая озабоченность. Здесь есть две стороны у этого вопроса. Есть сама идея спортивного праздника, я считаю, что в общем-то хорошая идея. И вообще идея спорта, который должен быть медиатором и во многом цивилизующей силой – это прекрасная вещь. В данном случае сама идея такого праздника никогда не встречала у меня никакого сопротивления. Вопрос о том, как тратились средства – это вопрос хороший. И здесь дума должна собрать какую-то комиссию, следить за этими вещами, предоставлять какие-то цифры. Здесь можно было бы спросить у законодателей: ведется ли какой-нибудь контроль? Михаил Соколов: У думы нет контрольных функций по конституции, но есть Счетная палата. Ирина Прохорова: Например, Счетную палату: сколько было потрачено, что потрачено, каким образом потрачено, каким образом кто отчитывается перед кем. Это вопрос, который общество вправе задать. Есть еще один вопрос, это вопрос уже прагматический: а что дальше будет? На самом деле Олимпиада – это очень важный экономический был рычаг. Потому что когда страна заявляла Олимпиаду, например, одна из последних Лондон, и делали это на окраине Лондона в неблагополучном районе – это была идея развития этого района, который потом может стать процветающим локусом ровно потому, что там Олимпиада порождает, строятся какие-то новые стадионы и так далее, это становится важным фактором на развитие всего города. Вопрос, который мы задаем, и ответ получим довольно быстро: каким образом все то, что там построено, с каким количеством издержек, я подозреваю, но пока мы официальные цифры не знаем. Михаил Соколов: Есть большие сомнения в официальных цифрах. Ирина Прохорова: Здесь общество вправе потребовать официальных цифр. Другое: что будет дальше с регионом, невозможно скрыть никакими цифрами и фактами. Михаил Соколов: С ним будет не очень хорошо, поскольку те инвестиции, которые шли в последнее время, они, конечно, сократятся так же точно, как с Приморским краем. Очень хорошо видно, что да, мосты построили, город в этом смысле развивается, но никаких особых инвестиций и так далее, успехов экономических не видно, скоро им будет сложно без тех денег, к которым они привыкли за последние годы. Подкормили и ушли. Ирина Прохорова: Сама Олимпиада, мне очень бы хотелось, чтобы, конечно, наша команда выступила прекрасно и, я думаю, что это здорово. К спортсменам никаких претензий быть не может. Я думаю, потом как раз по результатам, что будет в Сочи, можно реально говорить об Олимпиаде, ее роли и предъявлять претензии к тем, кто строил, как строил и думать о том, что будет с данным регионом. В данном случае этот вопрос остается открытым. Конечный результат и будет неким приговором, заключением общества о степени разумности подобной акции ровно там. Михаил Соколов: Можно маленький патриотический тест? По поводу “акта Магнитского”, что вы думаете? Должен ли просвещенный Запад как-то давить на российскую элиту? Если она нарушает права человека, должны ли наказывать российских жуликов и воров, в России их не могут наказать, тогда их накажут с помощью санкций в Соединенных Штатах или европе. Или, например, главы государств какие-то не приедут на Олимпиаду, не хотят там появляться. Ирина Прохорова: Вы знаете, я думаю, мы же подписывали все конвенции, и мы можем такие вещи делать, и другие страны, если мы в конвенции. Если мы соблюдаем международные конвенции – это двусторонний процесс. Я считаю, и те могут, и мы можем, если мы считаем, что нарушаются права человека. Здесь в данном случае вполне равноправие, я так предполагаю. Михаил Соколов: Сергей из Свердловской области, пожалуйста, ваш вопрос. Слушатель: Здравствуйте. Хотел напомнить: тяжеленная сила есть “Архипелаг ГУЛАГ” Александра Исаевича Солженицына. Он был тогда молодой, не то, что потом, потом совсем другой человек. Вот эта психология принуждения в обществе, психология садизма, издевательства никуда не делась, она же от тех родителей передалась дальше. Вот это все формируется. Я заметил, чем ближе к психологии вертухаев, тем люди большие успехи имеют в провинции, живут в достатке. Человек более мягкий выпадает вне. Михаил Соколов: Давайте может быть влияние этого фактора, какая у нас почва. Ирина Прохорова: Конечно, это страшное растление людей, которое происходило в советское время, прежде всего в сталинскую эпоху. Конечно, это не изживается сразу, это тяжелое наследие очень часто воспроизводится, особенно в структурах власти, которая, как я говорила, по легкому пути начинает идти. Но тем не менее, все-таки это медленно, но начинает изживаться. Я хотела бы заметить, задавший вопрос человек, я думаю, человек взрослый, наверное, он своим детям будет объяснять многие вещи. В данном случае здесь очень важный момент, как родители объясняют детям, что тогда происходило, почему это происходило. Мне больше всего обидно, что власть пытается реабилитировать саму идею насилия и сказать, что неважно, что такое было, ну было, зато модернизация. Хотя на самом деле никакой модернизации в реальности нет. Потому что модернизация – не строительство заводов, а модернизация в системе управления и сознании человека, взаимоотношения власти и общества, вот где идет полная модернизация настоящая, все остальное – это приложение. Технологически компьютером любой может пользоваться, это вовсе не знает, что происходит модернизация сознания или мышления. Это мучительный процесс, который будет продолжаться, я думаю, долго, но он несомненно будет. В данном случае те люди, которые понимают это, они обязаны своим детям объяснить и может быть не только своим детям. И с этим, несомненно, я лично буду бороться, я борюсь всю жизнь как издатель, как лидер партии, несомненно, партия будет постоянно к этому обращаться и объяснять, показывать, что на самом деле жертвами подобных репрессий могут быть и те, которые сейчас навязывают. Наивность этого репрессивного механизма в том, что люди, которые эти законы инициируют, они будут их жертвами. И вот этого они не понимают, они думают, что они все время будут на коне, хотя смысл существования подобного режима в постоянной ротации жертв. Как раз “Архипелаг ГУЛАГ”, который, кажется, до сих пор проходят в школах по счастью, он и показывает, что все люди, которые организовывали это, пытали, потом оказываются на тех же нарах. Если этот опыт генетический все-таки остался, я думаю, что долго эта система, он все равно не так уж сильно реанимируется, как может быть хотелось тем людям, которые пытаются таким образом решать какие-то проблемы. Я не думаю, что все депутаты в восторге от этого, другое дело, что дума сейчас устроена так, что там почти оппозиции нет, которая может голосовать против этого, но не думаю, что приветствуется подобная история. Так что, я думаю, мы будем мучительно и долго, но изживем это. Как только это произойдет, масса других проблем, связанных с правом, с пониманием, сами разрешатся. Должна быть активная позиция. Удивительно то, что я вижу это по дебатам. Почему-то люди, которые против репрессивной системы, ставятся в позицию оправдывания. Стало таким дурным тоном: а, вы либералы. И понеслось. И вдруг человек начинает говорить: ну, вы понимаете и так далее. Михаил Соколов: Мода-то на другое – консервативное, православное. Ирина Прохорова: Потому что мы сами до сих пор реагируем на моды политические, а значит, что мы все равно во власти идеи всевластия, некоей высшей политической силы. Михаил Соколов: Политик должен примиряться к тому, что думает народ, даже если народ сам не думает, а ему немножечко почистили мозги. Ирина Прохорова: Я ненавижу слово “народ” – это какое-то уничижение общества, превращение всех людей в какую-то глыбу какую-то замасленную. Неправда. Я совершенно не разделяю идею, что весь народ жаждет, вовсе нет. Михаил Соколов: Посмотрите опросы Левады, вы увидите, что в зависимости от направления идеологической кампании по телевидению, до 30, а может быть больше процентов меняет свое мнение на противоположное в течение нескольких месяцев. Сегодня США враг, завтра друг. Ирина Прохорова: Я как советский человек бывший очень критично отношусь к цифрам. Я очень уважаю Левада-центр, там многие мои коллеги, но я хочу заметить, что Левада-центр вместе с другими подобными организациями за две недели до “болотного дела” показывали, что в ближайшую декаду общество апатично и вообще не будет никак реагировать. Это не потому, что они плохо работают как социологи, а потому что есть вещи, которые очень трудно просчитать и предсказать. Я хочу заметить, что то, что есть в российском обществе и довольно парадоксально – это разрыв между риторикой. Люди вам расскажут ну бог знает что и с жизненными практиками. А если ты смотришь, как человек живет, как он ориентирует своих детей, как он выстраивает сценарий будущего, выясняется, что он вполне освоил демократические ценности. Да, если людей зомбировать и бесконечно говорить об этом, они вам скажут. Более того, не забывайте советскую выучку: на всякий случай сказать то, что хотят услышать. Это вовсе не значит, что люди все так искренни. 30% в конце концов не 80. Михаил Соколов: Давайте скучный вопрос про выборы в Москве, вы же участвовать будете, я так понимаю. Ирина Прохорова: Пока этот вопрос решается, но не исключаю. Михаил Соколов: Но партия будет? Ирина Прохорова: Партия будет. Михаил Соколов: Спрашивали, естественно, о союзниках, о договоренностях. С кем вы будете договариваться о совместных действиях или может быть уже договариваетесь, все-таки в округах избираться? Ирина Прохорова: Мы сейчас, во-первых, смотрим, когда же нам представят настоящую нарезку округов для того, чтобы вообще планировать какую-то деятельность. Пока на сегодняшний момент то, что я вправе сказать, конечно, мы открыты любым предложениям. Я думаю, что в любом случае искать возможности открытых альянсов необходимо. Как это в реальности будет, кто с кем будет договариваться, договорится или нет – это вопрос обозримого будущего, сейчас я не могу удовлетворить ваш интерес полностью. Михаил Соколов: Вы выступаете на этих выборах как оппозиционная партия? Ирина Прохорова: Неужели „партия власти“? Мы хотели бы быть партией власти, конечно. Михаил Соколов: Это хорошее признание, потому что любая партия должна бороться за власть, а в России многие партии борются за доступ к уху начальства. Ирина Прохорова: Если вы как-то немножко следите, у нас заседание ФГК, Федерального гражданского комитета почти каждый месяц, где мы рассматриваем разные сегменты программы и разрабатываем действительно стратегию и тактику развития страны. Это делается, потому что у партии есть идеи. Идея такая, что если вдруг мы когда-нибудь станем, а хотелось бы, чтобы это было быстрее, партией власти, мы должны понимать, что делать, должна быть программа развития страны, а не просто по принципу – сейчас втянемся, а потом разберемся. Михаил Соколов: Собянина за что вы конкретно будете критиковать, если вы оппозиционная партия? Есть мэр Москвы, есть партия власти. Ирина Прохорова: Давайте, когда мы начнем избирательную кампанию официально, вы все услышите. Что же мы сейчас заранее будем обсуждать? Михаил Соколов: Значит вы не оппозиционная партия, если у вас нет претензий? Ирина Прохорова: Всему свое время. Мы претензии выразим в момент избирательной кампании. Михаил Соколов: Я вас к “Дождю” верну. Есть две концепции свободы слова: американская, что свобода слова не может быть ограничена, и европейская, что с нацизмом, грубо говоря, можно бороться с помощью цензуры. Российская власть любит ссылаться на европейский опыт, правда, в фашисты, нацисты и так далее может записать кого угодно. Вы к какой концепции все-таки ближе? Ирина Прохорова: Вы знаете, обе концепции хороши в том случае, если вы видите полную картину действительности. Потому что ни та, ни другая, она может быть замечательная и ужасная, если не существует система какого-то общественного консенсуса по поводу моральных ценностей, традиций страны, системы судопроизводства, степени защищенности человека от произвола. Можно взять любую из этих концепций и довести до полного абсурда в силу того, что любая идея должна быть адаптирована к ситуации, чтобы она не превратилась в свою противоположность. У нас это часть происходит, потому что берется внешняя рамка, совершенно не видя, как в контексте той или иной страны работает эта модель. У нас очень любят ссылаться на какие-то прецеденты, лукаво пропуская целый ряд других моментов, которые не позволяют, например, системе общественного контроля превратиться в настоящую советскую цензуру, произвола цензоров, которые по своему усмотрению крошат. Михаил Соколов: Сейчас сайты будут отключать ровно так, без суда и следствия. Ирина Прохорова: Грубо говоря, может быть, теоретически в другой стране этот закон работает, потому что там есть некая система традиций, условностей и правового сознания людей, которые за это отвечают, у нас же это будет удобный инструмент отключать не экстремистские сайты, а отключать оппозиционные сайты, где будут за уши притянуты идеи экстремизма. Это как раз наша ситуация абсолютно классическая. Поэтому, разумеется, столько возмущения среди людей мало-мальски просвещенных и более-менее понимающих слабость нашей законодательной системы. Понятно, что это легко выворачивается, потом два года доказывай, что это не было экстремизмом. Более того, определения экстремизма все равно толкового нет. По проговоркам наших депутатов, экстремизм – это любое несогласие с конкретным депутатом может рассматриваться как экстремизм при желании. В этом смысле идея обожествления начальства и не сметь критиковать власть, такая сокрализация власти, она на повестке дня, и все эти законы так или иначе идея неприкосновенности власти и отсутствие любой ответственности перед людьми. Что хотим, то и делаем, потому что мы власть. Михаил Соколов: У начальства есть фамилия – Владимир Владимирович Путин. Ирина Прохорова: Вы знаете, я не считаю, что один человек может структурировать вокруг себя эту систему представлений. Вокруг этого огромное количество политических сил, которые это подпитывают, подталкивают и развивают. В данном случае в нашей стране первое лицо обладает большим политическим весом. Однако, мы знаем, что без какой-то платформы поддержки что хотите делайте, можно принять любые решения, но где-то они работают, где-то не работают. Боюсь, что на самом деле в самой структуре власти есть большое количество людей, которые могу бежать впереди паровоза. Опять же, легче найти одного человека, нежели видеть, как работает целый аппарат власти, какой контингент людей около этой власти стоит. Михаил Соколов: Вы очень осторожны. Ирина Прохорова: Я хочу сказать честно: я хочу скорее анализировать, чем просто кричать. Я тоже могу сейчас крикнуть: вот такой, сякой, рассякой. Претензии могут быть предъявлены. Но, смотрите, интересные моменты: даже при советской власти были вещи, которые были просто невозможны. И даже в то время, когда власть был абсолютно, стопроцентно, что хотела, то и воротила, особенно послевоенную ситуацию если посмотрим, общественное мнение часто работало так, что власть ничего не могла сделать. Помните эту историю с поворотами рек? При всем ее безумии теоретически она была возможна. Это была опят попытка мобилизации общества вокруг какого-то гипербезумного проекта. И на самом деле был невероятный шквал общественного мнения в стране, где была цензура и как-то все это затихло. Михаил Соколов: Перестройка, правда, началась к этому моменту. Ирина Прохорова: Это было до перестройки. Вообще это начиналось в эпоху стагнации. И в этом смысле при всем при том, что наш президент символизирует традиционалистские консервативные ценности, особенно сейчас, знаете, реакция общества меняет очень часто. Значит отчасти ваши упреки справедливы, значит общество еще не умеет формулировать жестко несогласие, чтобы власть это услышала. А ведь власть очень чутка, тем не менее. Михаил Соколов: Власть действительно очень чутка. Дмитрий Киселев в последней передаче обличал лично вас, что-то такое звучало про сестру олигарха и прочее. Как вы воспринимаете это, что вы попали в списки демонизируемых врагов народа? Не ждете ли вы теперь какого-нибудь фильма Мамонтова, например? Ирина Прохорова: Знаете, я даже польщена. Если я достойна того, что меня начал костить Киселев, то значит я вошла в политическую сферу. Бойся, не бойся, все равно это какая-то реклама. Михаил Соколов: Или антиреклама. Потому что удается все-таки с помощью телевидения, несмотря на наличие интернета, управлять общественным мнением. В конце концов, когда 75% россиян отказываются положительно отнестись к событиям на Майдане – это в том числе результаты пропаганды. Так что, если вы будете жертвой пропаганды, вам будет трудно бороться на выборах. Ирина Прохорова: Я же прекрасно понимаю, что будет очень непросто, может быть более непросто, чем я предполагаю. Наивно было бы думать, что это будет веселая прогулка по политическим полям. Конечно, будет много неприятного. У нас, к сожалению, традиция поливать грязью оппозиционную партию. С другой стороны хочу сказать следующее: есть какие-то вещи, которые не срабатывают. Давайте посмотрим победу Ройзмана в Екатеринбурге. Все средства массовой информации были задействованы на то, чтобы опорочить человека и, тем не менее, это не сработало. У человека был реальный авторитет, люди об этом знали и не сильно поверили. Значит мне надо зарабатывать долго и упорно, опять же, смогу ли – это вопрос, какой-то реальный авторитет у людей, где это все может быть не будет так действовать. Но что здесь поделаешь, каждый работает, как умеет. Если нет никаких достижений, власть не может похвалиться достижениями, а только может поливать, что ж поделаешь, пусть. Михаил Соколов: Вы издательской и культурной деятельностью продолжаете заниматься? Ирина Прохорова: Да, конечно. Я считаю, что все равно это мое основное и главное. Михаил Соколов: Как основное? Лидер партии не может сказать, что это мое не основное дело. Ирина Прохорова: Я шучу. Я считаю, что одно другому не должно противоречить – это просто разные сферы деятельности. Более того, я хочу заметить, моя книгоиздательская деятельность, благотворительная деятельность во многом помогает мне. Это разные сферы, они никак не соприкасаются ни финансово, ни организационно. Во многом они помогают как-то лучше постигать общество. Я надеюсь, что какой-то политический опыт, как бы он ни закончился, даст мне тоже очень важное понимание механизмов общества, что полезно и для академической деятельности в том числе. Это момент самопознания и познания собственной страны. |
|
#185
|
||||
|
||||

|
|
#186
|
||||
|
||||
|
http://inosmi.ru/world/20140331/219122201.html
 © РИА Новости Илья Питалев Что делает русский национальный характер таким особенным? Правда ли, что русские отличаются от других народов? Ответ — да, несомненно. Рожденные в СССР Россия, которая занимает 155-е место по глобальному индексу миролюбия, является одной из самых опасных стран в мире. Россия снискала печальную известность, как страна беззакония, где при численности населения в 143 миллиона человек убийства совершаются каждые 18 минут — это в среднем 84 убийства в день. Другая сторона монеты — это высокий уровень самоубийств. По данным государственного научно-исследовательского центра имени Сербского в Москве, Россия занимает второе место в мире по уровню самоубийств, уступая только Литве. С 1993 по 2013 годы самоубийства совершили приблизительно миллион россиян. Более того, примерно миллион граждан России ежегодно гибнут по причинам, связанным с курением и злоупотреблением алкоголем. Средняя продолжительность жизни российских мужчин составляет всего 60 лет — это один из самых низких показателей в Европе. Четверть мужчин в России гибнут, не достигнув возраста 55 лет. Может показаться, что вся нация, подобно гигантской стае леммингов, движется по направлению к саморазрушению, однако это не мешает им гордиться собой и своей страной. Они искренне убеждены, что когда-то они жили в одной из величайших империй мира. Результаты нового опроса, проведенного московским независимым Левада-центром, показали, что около 60% россиян «глубоко сожалеют» о развале Советского Союза. Для жителей Запада, которым на протяжении всей их жизни внушали, что СССР — это угроза для цивилизации, это оказалось сродни печально известной тайне «русской души» — мифу, который до сих пор жив благодаря русской литературе. Сегодня существует целый ряд подобных мифов. К примеру, широко распространенная легенда о древнеславянской культуре. Такого понятия никогда не было и не могло быть, потому что термин «славяне» в западноевропейских языках всегда означал просто «рабы» - то есть языческий народ, которому удавалось выживать при репрессивных режимах сменявших друг друга завоевателей. Легкая добыча Кто такие русские и откуда они пришли? Примерно два тысячелетия назад их предки, которых часто называли «восточнославянскими племенами», пришли с территорий, которые теперь занимают Польша и Украина. Считается, что эти племена заняли северо-восточные области евразийского континента. Тогда ценность этих обширных диких территорий заключалась только в их лесах, и эти леса были совершенно непроходимыми, за исключением отдельных участков у берегов рек. «В России нет дорог, — однажды с горечью заметил Наполеон. — Только направления». В южных районах страны растительность была менее обильной, тогда как ее север представлял собой одну сплошную чащу. В то время как первые европейские фермеры вырубали деревья, чтобы освободить площади для посевов, русские племена предпочитали охотиться и ловить рыбу. Это было общество с более простой структурой, поскольку людям не нужно было объединяться, чтобы вместе обрабатывать землю. В результате у них не было общественного строя, а без общественного строя у них не было ни общности взглядов, ни религии, ни интеллектуального развития. Кроме того, без торговли у них не было промыслов — истинного источника национального благосостояния и силы. Очень скоро воинственные соседи воспользовались удобным случаем и захватили земли этих слабых племен. Сначала пришли викинги. Они перемещались вверх и вниз по течению местных рек, как будто были хозяевами на этих территориях. И, в конце концов, они действительно стали там хозяевами. Одним из городов, основанных викингами, стал Киев. Великий киевский князь Олег на самом деле был предводителем викингов, носившим чисто скандинавское имя Хельг — так же, как Владимир — это Вальдмар, а Игорь — Ингвар. Считается, что Русь была частью Швеции, поскольку ее правящий класс полностью состоял из викингов, то есть варангианцев, как они называются в самом раннем украинском историческом источнике, «Повести временных лет». Кстати, религия, искусство, архитектура и язык Руси, таким образом, были украинскими. Более северные проторусские племена сыграли второстепенную и откровенно негативную роль в истории. Именно они поддержали так называемое татаро-монгольское нашествие. Эстафета варваров Для русских людей, живших в 13 веке, термины «татарин» и «монгол» были эквивалентными. Все народы, жившие к востоку от русских границ, в течение многих столетий назывались татарами. Монголы также пришли с востока. По пути в Европу они завоевали десятки русских племен, пополнив за счет них свои войска. Основная масса Золотой орды состояла из татар, которых ранее завоевали монголы. Русские князья превращались в коллаборационистов, довольно часто приносивших в жертву благосостояние и безопасность своих людей ради своего собственного влияния и власти. В действительности такие любимые герои русской нации, как Александр Невский и Дмитрий Донской, притесняли своих соотечественников, относясь к ним как к рабам другой расы. Князь киевский Ярослав Мудрый стал одним из тех правителей, которого позже нарекли царем — это слово является искаженной версией латинского слова «цезарь», употреблявшегося в отношении римских императоров. До Ярослава это слово употреблялось исключительно в отношении монгольских правителей, встававших во главе русских княжеств. Самым известным русским царем стал Иван IV, получивший прозвище Грозный, который объединил русский народ вокруг Москвы. При нем москвичи завоевали татарские ханства Казань и Астрахань и установили власть Москвы на обширных территориях бассейна реки Волга и Северного Кавказа. Именно тогда Московское царство получило название «третьего Рима», хотя его правильнее было бы назвать «второй Золотой ордой». Иван Грозный с удовольствием наблюдал за тем, как людей сжигали заживо и топили в прорубях. Петр I сам убивал своих слуг голыми руками и обучал палачей тому, как правильно нужно рвать ноздри щипцами. Царь Павел I, которого считали умалишенным, так сильно переживал из-за своей заурядной внешности, что карал смертью тех, кто произносил слово «курносый». Царь Николай I заставлял своих солдат ходить гусиным шагом со стаканом, полным воды, на голове. Если солдат проливал хотя бы немного воды, он был обязан отслужить один дополнительный год в армии за каждую пролитую каплю. Абсолютная власть русских царей всегда была жестокой, деспотичной и антигуманной. Эта власть была основана на принципе, который сродни печально известной «вертикали власти», созданной президентом России Владимиром Путиным в 21 веке. Этот принцип чрезвычайно прост. Он называется тирания одного человека и заключается в том, что жизни миллионов людей не значат ровным счетом ничего. Сталин был не первым и далеко не единственным российским тираном, готовым превратить целую нацию в «лагерную пыль». Возможно, вам будет интересно узнать, что после Крымской войны 1854-1856 годов правительство Николая I продало с аукциона на удобрения отбеленные кости 38 тысяч русских солдат, погибших в битве при Севастополе. Сегодня мир опасается начала второй Крымской войны. Войска под предводительством нового русского царя уже приведены в боевую готовность. Украденная душа История современной России — это бесконечный цикл правления царей. Царь Хрущев сменил на троне царя Сталина. Брежнев сместил Хрущева и сам стал царем. Слабый царь Горбачев уступил трон могучему царю Ельцину, который назначил своим преемником Путина, который назначил своим преемником Медведева, позже предложившего переизбрать президента Путина. Русский народ не верит, что он может жить иначе, может жить лучше, чем сейчас. На протяжении многих веков его так притесняли, что у него просто не осталось этой веры. Именно поэтому сегодня в России мы наблюдаем искалеченное общество, несчастных людей с огромным потенциалом, которого, возможно, нет ни у одной другой нации в мире. Русские — это чрезвычайно умный, творчески одаренный народ, который при этом остается совершенно униженным, ограбленным, обманутым и испытывающим страх перед властями. Эти люди не знают, что такое свобода. Эти люди жили в атмосфере непрекращающегося насилия над человеком. «Для человека, чей родной язык — русский, разговоры о политическом зле столь же естественны, как пищеварение», — сказал однажды поэт Иосиф Бродский. Они обречены жить и умереть в исторической России — стране имперского самодовольства, жестоких деспотов и заискивания перед Властью. Так что мы знаем о русской душе? Нет никакой необходимости искать ее в толпе людей, лежащих ниц перед троном. У толпы нет души. Только дыра. Одна гигантская черная дыра. Оригинал публикации: The Enigmatic 'Russian Soul' |
|
#187
|
||||
|
||||
|
http://www.vedomosti.ru/opinion/news...-poiskah-nacii
 Проект «Русский мир» представляет собой архаичный ответ Путина на «гражданскую нацию» Алексея Навального: империя вместо национального государства. империя вместо национального государства и диктатура вместо демократии. Это та же попытка дать россиянам ответ на острый вопрос «Кто мы?» Россия ельцинской поры так и не смогла найти ответ на вопрос «Кто мы?». Причина провала лежала в фундаментальном противоречии, заложенном в структуру государства ельцинской поры, — в сочетании недораспавшейся империи с демократическим госустройством. Проблема лежит в исконной дихотомии между империей и гражданской нацией. Многие считают, что взметнувшиеся вслед за присоединением Крыма рейтинги Путина — результат усиленной промывки мозгов кремлевскими властями, у самих же россиян готового мнения по таким вопросам нет. Однако крымские события показали, что мнение есть и значительная часть общества поддерживает имперские устремления российской элиты. Именно к этой части общества обращен путинский проект «Русский мир», контуры которого показаны в «Материалах и предложениях к проекту основ государственной культурной политики», опубликованных на прошлой неделе. Наличие культурной общности между русскоязычными жителями из разных стран подтверждают результаты опросов русскоязычного населения Восточной Европы, которое часто оказывается ценностно ближе к россиянам, чем к титульному населению своих стран. Например, как и россияне, русскоязычные граждане балтийских стран в основном поддержали присоединение Крыма. Так, по данным опроса исследовательского центра SKDS, в Латвии неоправданными действия России в Крыму назвали 35,7% русскоязычных латышей против 78,3% латышскоязычных. Полностью оправданными действия России считают 43,1% русскоязычных и только 8% латышскоязычных. Такой огромный разрыв в оценках среди людей, долгое время проживающих в одной стране, можно объяснить только культурными отличиями. По аналогии: в статье 2009 г. Максим Руднев, социолог из НИУ ВШЭ, обнаруживает, что русскоговорящие жители Эстонии очень похожи на россиян по своим ценностям и установкам и совсем не похожи на эстоноязычных жителей (Руднев М. Влияние «русскоязычности» на жизненные ценности. — Журнал «Социология: 4М», 2009, N 28). Поиск национальной самоидентификации Политолог Брюс Капферер в книге «Легенды народов: государственные мифы» (Kapferer B. Legends of People, Myths of State: Violence, Intolerance and Political Culture in Sri Lanka and Australia, 2012) на примерах из истории Шри-Ланки и Австралии показывает, что часто политики не столько манипулируют сознанием масс, сколько сами разделяют общие онтологические мифы со своим народом и апеллируют к этим мифам. Так, по-видимому, искреннее мнение Владимира Путина о распаде СССР как крупнейшей катастрофе ХХ в. разделяет и большинство россиян: по опросу «Левада-центра» в декабре 2013 г., о распаде СССР сожалеют 57% россиян. Политики часто не столько создают государственные мифы, сколько формулируют их, вербализуя и структурируя уже существующий в сознании масс смутный и расплывчатый запрос. Успешность же государственных мифов зависит от того, насколько чутко политики улавливают этот запрос. Именно таким размытым запросом в сознании россиян стал идеологический вакуум, возникший с распадом СССР. Коллективный поиск национальной идеи в 1990-е гг. часто приобретал откровенно комический оттенок. Но Россия ельцинской поры так и не смогла найти ответ на вопрос «Кто мы?». Причина провала лежала в фундаментальном противоречии, заложенном в структуру государства ельцинской поры, — в сочетании недораспавшейся империи с демократическим госустройством. Проблема лежит в исконной дихотомии между империей и гражданской нацией. Как показывает историк Джеффри Хоскинг (Хоскинг Д. Россия: народ и империя, 1552-1917. 2001), Россия всегда была империей: не национальным государством, построенным на основе народного суверенитета, а метрополией, объединяющей вокруг себя покоренные колонии. Специфика России состояла в континентальном характере империи: колонии географически не были отделены от метрополии, но территориально образовывали с ней одну страну. Отсюда исконная потребность в сильной авторитарной власти для удержания колоний, которая замедляла демократические процессы в метрополии. Политолог Дмитрий Фурман писал: «Все иные национализмы, складывающиеся в Российской империи, могли апеллировать к демократическим ценностям, но русский не мог этого делать, ибо в континентальной империи с неясными границами между имперским центром и периферией нельзя демократизировать центр, не допуская сепаратизма окраин...» Это четко сформулировал Александр II: «Если дать России конституцию — она развалится, поэтому я не даю, а не потому, что мне жалко поступиться своими правами» (см.: «От Российской империи к русскому демократическому государству», polit.ru, 8.12.2010). Отличие русского имперского национализма поэтому состояло в том, что русский народ традиционно считал своей сверхзадачей удержание «братских народов» в едином «дружественном» ярме. Имперская ориентация была неразрывно связана с авторитарной системой управления. Позднее имперская структура, существовавшая в Российской империи, воспроизвела себя и в СССР. Русские в российской империи Другой особенностью российской империи было то, что русские как бы жертвовали признанием себя как титульной нации в обмен на неформальный статус «старшего брата» в семье народов империи. Например, в СССР в отличие от других республик у РСФСР даже не было собственных национальных институтов, поскольку было понятно, что общесоюзные институты и так были преимущественно русские. Но отсутствие формального признания титульности русской нации в составе империи со временем вело к росту недовольства среди русских, ощущению ущемления своих прав. В результате формировался комплекс — «русских ущемляют», что, по Фурману, обусловило особость русского национализма: русский национализм «не стремится к распаду империи, он стремится к превращению СССР в государство с ясными преимуществами русских, ясное национально русское государство» (Фурман Д. «От Российской империи до распада СНГ», лекция в ОГИ, poilt.ru). Перефразируя известную поговорку, русский национализм стремился стать не свободным, а господином (над другими нациями). Именно этому запросу и отвечает текущий кремлевский проект «Русского мира». Ельцинская же Россия, возникшая на месте недораспавшегося Союза, не стала ни национальным (русским) государством, ни империей, железной рукой удерживающей «братские народы» в едином государстве. Именно поэтому чеченская война 1994 г. стала столь сильным ударом по демократическому проекту Ельцина — она прямо обозначила неразрешимые противоречия между демократией и империей. Пытаясь найти решение этой проблемы, ельцинские элиты предложили искусственный термин «россияне». Но на этой основе устойчивая национальная идентичность возникнуть не смогла именно в силу фундаментальных противоречий в структуре государственности ельцинской поры: демократия стимулировала сепаратистские тенденции в наднациональной федерации — вновь возникшие «россияне» стремились вон из России. Отметим, что в этом смысле действия Владимира Путина, восстановившего контроль над Чечней параллельно с отменой выборов губернаторов и воссозданием авторитаризма, гораздо более последовательны. Не решенный в 1990-е гг. национальный вопрос в начале 2000-х обострился из-за притока в страну большого числа мигрантов из Средней Азии и возросших трений с коренным населением. Устойчиво росла популярность лозунга «Россия для русских». Алексей Навальный был одним из первых политиков, уловивших этот запрос и предложивших на него свой ответ — демократия и гражданский национализм. Казалось, что Путин, пришедший к власти на волне победы во второй чеченской войне, не сможет найти убедительной альтернативы идеям гражданского национализма Навального. Однако к началу 2014 г. Кремль, чутко прислушивающийся к настроениям россиян, сформулировал конкурирующий проект — «Русский мир» («Материалы и предложения к проекту основ...», см. выше). Ответ Путина Навальному Проект «Русский мир» представляет собой архаичный ответ Путина на «гражданскую нацию» Алексея Навального: империя вместо национального государства и диктатура вместо демократии. Это та же попытка дать россиянам ответ на острый вопрос «Кто мы?». Однако для большинства россиян путинский проект несомненно привлекательнее «гражданской нации» Навального по двум причинам. Во-первых, российские либералы, в силу разных факторов являющиеся преимущественно носителями имперского сознания, не смогли сплотиться вокруг национального проекта Навального (как показали губернаторские выборы в Москве в 2013 г.) и лишили этот проект необходимой поддержки. Во-вторых, еще важнее то, что «Русский мир» основан на вековых традициях русского имперского национализма и тонко увязывает между собой особую роль титульной русской нации с имперскостью. «Русский мир» апеллирует к постимперскому синдрому россиян, воскрешая в их глазах былое величие Российской империи и Советского Союза. Проект описывает «единую российскую культуру» как правопреемницу «достижений всех коренных народов» страны. Одновременно «Русский мир» тонко интегрирует в себя идею «Россия для русских» и дает ответ на вековой запрос русской нации стать титульной в рамках империи. Проект подчеркивает опору на русских как титульную нацию: «...Исторически именно русский народ являлся и является государствообразующим. Отрицание этого факта равносильно отрицанию межнациональных различий вообще. (Около 80% граждан Российской Федерации — русские.) Аналогичным образом подавляющее большинство культурных достижений нашей страны связано с именами деятелей культуры, творивших в рамках русской культурной традиции». Подчеркнем революционность самого признания этого факта — опоры на титульную нацию, ведь исторически (за вычетом редких периодов, подобных правлению Александра III) российская власть формально не признавала русских как государствообразующую нацию. Путин же дает ответ именно на этот вековой запрос россиян. Прямая связь проекта «Русский мир» с историческими архетипами не позволяет усомниться в потенциальной успешности этого проекта. Именно культурой (а не просто «маленькой победоносной войной») объясняются зашкаливающие путинские рейтинги по результатам украинской кампании. Более того, по той же причине Кремлю удалось почти мгновенно переманить на свою сторону русских националистов (например, Егора Просвирнина, Александра Храмова), бывших сторонников идей Навального, которые теперь активно поддержали аннексию Крыма. В отличие от либерального сообщества Кремль отлично понимает культурные особенности России и успешно апеллирует к ним. Несмотря на то что путинский проект будет пользоваться огромной популярностью у большинства россиян, он, по сути, представляет собой повторение все того же многократно пройденного Россией пути, который неизменно заканчивался для нас катастрофой. |
|
#188
|
||||
|
||||
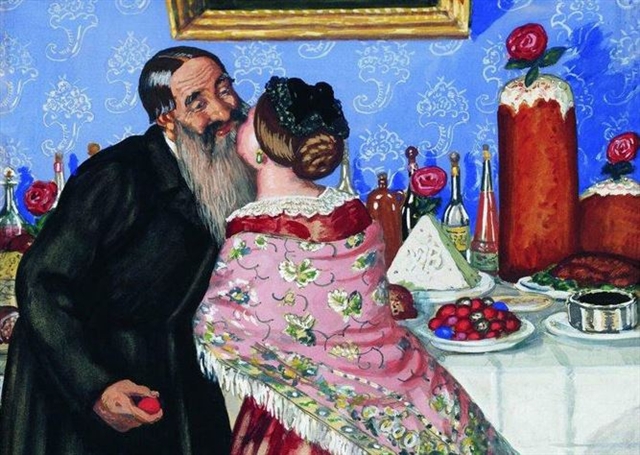 March 20th, 23:43 По одной из версий, название "славяне" происходит от слова "славить". Это кажется несомненным, ведь каждое русское приветствие - это славословие, даже если оно беззвучное. 1. Дохристианские приветствия. В сказках и былинах герои очень часто приветствуют поле, речку, лес, облака. Людям же, особенно молодым, говорят: "Гой еси, добрый молодец!" Слово гой - очень старое, этот древнейший корень встречается во многих языках. В русском языке его значения связаны с жизнью и живительной силой, и в словаре Даля гоить означает «говеть, жить, здравствовать». Но есть и другое толкование приветствия "Гой еси!": некоторые исследователи утверждают, что это словосочетание указывает на принадлежность к одной общине, роду, племени и может быть переведено как: «Ты есть наш, наших кровей». Итак, слово «гой» означает «жить», а «еси» — «есть». Буквально эту фразу можно перевести на современный русский так: «Ты сейчас есть и будь живым еще!». Интересно, что этот древний корень сохранился в слове изгой. И если «гой» — это «жить, жизнь», то «изгой» — его антоним - это человек, оторванный от жизни, лишенный ее. Другое распространенное на Руси приветствие - "Мир вашему дому!" Оно необычайно полное, уважительное, ведь таким образом человек приветствует дом и всех его жителей, близких и далеких родственников. 2. Христианские приветствия. Христианство подарило Руси разнообразие приветствий, и с этих пор по первым же произнесенным словам стало возможным определить вероисповедание чужестранца. Между собой русские христиане любили здороваться так: "Христос посреди нас!" - и отвечать: "Есть и будет!". Руси дорога Византия, а древний греческий язык ощущается почти родным. Древние греки приветствовали друг друга возгласом «Хайрете!», что означало «Радуйтесь!» - и русские вслед за ними восприняли это приветствие. "Радуйся!" - как бы начинает песнь Пресвятой Богородице человек (ведь именно такой рефрен встречается в песнопениях Богородице). Другое приветствие, появившееся в это время, чаще использовалось, когда человек проходил мимо работающих людей. "Бог в помощь!" - говорил он тогда. "Во славу Божию!" или "Слава Богу!" - отвечали ему. Эти слова, не как приветствие, а чаще как просто пожелание, используются русскими до сих пор. Наверняка не все варианты древних приветствий дошли до нас. В духовной литературе приветствие почти всегда "опускалось" и герои переходили сразу к сути разговора. Только в одном литературном памятнике - апокрифе "Сказание отца нашего Агапия" XIII века встречается приветствие того времени, удивляющее своей поэтичностью: "Добре ходити и добр вы путь буде". 3. Поцелуи. Троекратный поцелуй, сохранившийся в России до ныне - очень старая традиция. Число три - сакральное, оно и полнота в Троице, и надежность и оберегание. Так часто целовали и гостей - ведь гость для русского человека все равно что ангел, входящий в дом. Другой вид поцелуев - поцелуй руки, означавший почтение и преклонение. Конечно, именно так здоровались приближенные с государем (порой целуя даже не руку, а ногу). Это целование - и часть благословения священника, являющееся одновременно и приветствием. В церкви расцеловывали и того, кто только что причастился Святых Христовых Таин - в этом случае поцелуй был и поздравлением, и приветствием обновленного, очищенного человека. О сакральном, а не только "формальном" значении поцелуев на Руси говорит и то, что не всем было позволено целовать руку государя (послам нехристианских стран это запрещалось). Человек, низший по статусу мог поцеловать высшего в плечо, а тот его - в голову. После революции и в советское время традиция приветствий-поцелуев ослабела, но сейчас вновь возрождается. 4. Поклоны. Поклоны - приветствие, которое, к сожалению, не сохранилось до наших дней (но осталось в некоторых других странах: например, в Японии люди любого уровня и социального статуса до сих пор глубоко кланяются друг другу при встрече, прощании и в знак благодарности). На Руси было принято раскланиваться при встрече. Но и поклоны бывали разные. Славяне приветствовали уважаемого в общине человека низким поклоном до земли, иногда даже касаясь или целуя ее. Такой поклон назывался "большим обычаем". Знакомых и друзей встречали "малым обычаем" - поясным поклоном, а незнакомцев почти без обычая: прикладывая руку к сердцу и затем опуская ее вниз. Интересно, что жест "от сердца к земле" является исконно славянским, а "от сердца к солнцу" нет. Прикладывание руки к сердцу сопровождало любой поклон - так наши предки выражали сердечность и чистоту своих намерений. Любой поклон метафорически (да и физически тоже) означает смирение перед собеседником. В нем также есть момент беззащитности, ведь человек склоняет голову и не видит того, кто перед ним, подставляя ему самое беззащитное место своего тела - шею. 5. Объятия. Обнимания были распространены на Руси, но и этот вид приветствия имел разновидности. Один из интереснейших примеров - мужское объятие "сердцем к сердцу", показывающее, на первый взгляд, полное доверие мужчин друг к другу, но в действительности свидетельствующее об обратном, ведь именно таким образом мужчины проверяли, нет ли оружия у потенциального опасного соперника. Отдельный вид объятий - братание, внезапное прекращение военных действий. Обнимались родные и близкие, а еще - люди в церкви перед исповедью. Эта древняя христианская традиция, помогающая человеку настроиться на исповедь, простить других и самому попросить прощения (ведь в храмах тогда были люди, хорошо знающие друг друга, а среди них обидчики и обиженные). 6. Рукопожатия и шапки. Касание рук - древнейший жест, сообщающий очень много собеседникам без единого слова. По тому, насколько сильным и долгим является рукопожатие, можно определить чрезвычайно много. Длительность рукопожатия пропорциональна теплоте отношений, близкие друзья или люди, давно не видевшие друг друга и радующиеся встрече могли совершать горячее рукопожатие не одной рукой, а обеими. Старший обычно первым протягивал руку младшему - это было как бы приглашением того в свой круг. Рука обязательно должна быть "голой" - это правило сохранилось и до наших дней. Открытая рука свидетельствует о доверии. Еще один вариант пожатия рук - касание не ладонями, а кистями. По всей видимости, оно было распространено среди воинов: так они проверяли, что у встретившегося на их пути нет с собой оружия, и демонстрировали свою безоружность. Сакральный же смысл такого приветствия заключается в том, что при соприкосновении запястий передаётся пульс, а значит и биоритм другого человека. Два человека образуют цепь, что тоже немаловажно в русской традиции. Позже, когда появились правила этикета, лишь друзьям приписывалось пожимать друг другу руки. А для того, чтобы поздороваться с дальними знакомыми, приподнимали шапку. Отсюда и пошло русское выражение "шапочное знакомство", означающее поверхностное знакомство. 7. "Здравствуй" и "привет". Происхождение этих приветствий очень интересно, так как слово "здравствуй", например, не сводится просто к слову "здравие", то есть здоровье. Сейчас мы воспринимаем его именно так: как пожелание другому человеку здоровья и долгих лет жизни. Однако корень "здрав" и "здров" встречается и в древнеиндийском, и в греческом, и в авестийском языках. Первоначально слово "здравствуйте" состояло из двух частей: «Sъ-» и «*dorvo-», где первая означала «хороший», а вторая имела отношение к понятию «дерево». При чем здесь дерево? Для древних славян дерево было символом крепости и благополучия, и такое приветствие означало, что человек желает другому этих крепости, выносливости и благополучия. К тому же и сам приветствующий происходит из крепкого, сильного рода. Это доказывает и то, что не все могли произносить "здравствуйте". Свободным людям, равным друг другу, это позволялось, а холопам нет. Форма приветствия для них была другая - "Бью челом". Самое первое упоминание слова «здравствуйте» исследователи обнаружили в летописи, датированной 1057 годом. Автор хроник записал: «Здравствуйте же многие лета». Слово "привет" расшифровать проще. Оно тоже состоит из двух частей: "при"+"вет". Первая встречается в словах "приласкать", "приклонить" и означает близость, приближение к чему-то или кому-то. Вторая есть в словах "совет", "ответ", "весть"... Говоря "привет", мы проявляем близость (и действительно, только к близким людям мы обращаемся так) и как бы передаем другому добрую весть. Екатерина Оаро Источник: http://russian7.ru/2013/11/7-sekreto...-privetstviya/ |
|
#189
|
||||
|
||||
|
Последний раз редактировалось Chugunka10; 06.12.2021 в 18:46. |
|
#190
|
||||
|
||||
|
|
 |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|